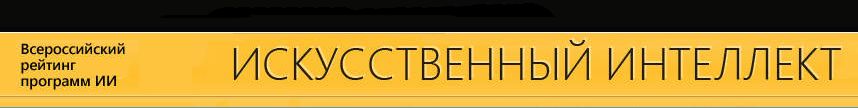Если
отнести совет Торо к нашим попыткам изучить
Вселенную, то сразу же возникает сложный
вопрос: а ведет ли сама Природа свои расчеты
на ногте большого пальца? Иными словами
-- правят ли окружающим нас миром всего
несколько основных законов или же число
их бесконечно? Или, быть может, прав известный
физик Ричард Фейнман, предположивший,
что число главных законов Природы хотя
и конечно, но открывать каждый следующий
из них становится все труднее и труднее,
так что всегда останется место для тайны
в поведении Вселенной.
С
этими вопросами тесно связан еще один,
а именно: просты или сложны эти главные,
основные законы? Большинство биологов,
особенно те из них, кто изучает мозг и
нервную систему, находятся под сильным
впечатлением необыкновенной сложности
раскрывающихся перед ними процессов
и явлений. Наоборот, большинство физиков
сохраняют твердую веру в конечную простоту
основных законов Природы -- несмотря на
то, что квантовая механика несравненно
усложнила их науку, особенно после открытия
новых удивительных частиц и видов взаимодействий
между ними. Самый лучший пример такого
подхода к миру -- взгляд на науку Альберта
Эйнштейна. «Наш опыт убеждает нас, -- писал
он, -- что природа -- это реализация самых
простых математических идей». Когда он
выбрал тензорный анализ для того, чтобы
с его помощью создать свою теорию гравитации,
он взял в руки самый простой инструмент,
какой годился для этой работы. Опубликовав
свои труды, он как-то сказал о них знакомому,
математику Джону Кемени: «Бог ни за что
не упустил бы возможность сделать Природу
такой простой». Некоторые биографы считают,
что огромные научные достижения Эйнштейна
связаны с его всегдашним стремлением
максимально упростить свою личную жизнь
-- вполне в духе советов Торо. «Спальня
Эйнштейна выглядела как монашеская келья,
-- писал Питер Майклмор в книге «Эйнштейн,
профиль Человека». -- Не было ни картин
на стенах, ни ковра на полу... Он часто
ходил по дому босиком. Его жена Эльза
подрезала ему волосы лишь раз в несколько
месяцев -- чаще он не позволял... Он обходился
без пижамы, а впоследствии и без носков.
«А к чему носки? -- спрашивал он. -- Они только
производят дырки». Эльза как-то не в шутку
рассердилась на него, увидев, как
он отрезал у только что купленной рубашки
рукава ниже локтя. Эйнштейн объяснил
ей, что в манжеты надо продевать запонки,
а «это -- пустая трата времени». «Всякое
достояние, -- говорил Эйнштейн, -- это камнь,
привязанный к ноге». Кажется, будто эта
фраза взята прямо из «Уолдена». Но
к ногам Природы, по-видимому, привязано
немало камней. Основные ее законы выглядят
простыми лишь в первом приближении, и
они становятся невероятно сложными, как
только приходится обяснять новые наблюдения.
Известный философ я математик Альфред
Уйтхед писал, что лозунгом каждого ученого
должно быть: «Ищи простоту и не верь ей!».
Галилео Галилей взял самое простое уравнение
для падающих тел, но оно не учитывало
некоторых обстоятельств, и потому было
заменено несколько более сложным уравнением
Исаака Ньютона. Сам Ньютон тоже верил
я простоту мнра, «Природа довольствуется
простотой, -- писал он, перефразируя Аристотеля,
-- и не любит. пышности излишних причин».
Тем не менее, уравнения Ньютона, в свою
очередь, были подправлены Эйнштейном,
а сегодня уже есть физики, которые считают,
что и уравнения Эйнштейна тоже необходимо
усложнить и модифицировать. Рискованно
утверждать, что раз большинство известных
нам основных законов Природы просты,
то и пока еще не открытые ее законы тоже
будут простыми. Быть может, то, что проще,
лежит на поверхности, а в глубинах скрываются
вещи, несравненно более сложные? Наука
иногда вдруг резко упрощает наш взгляд
на мир, вводя теории, благодаря которым
под действие одних и тех же законов подпадают
явления, ранее считавшиеся никак между
собой не связанными. Так, например, была
открыта эквивалентность инерции и тяготения
в общей теории относительности. Но, с
другой стороны, та же наука иной раз обнаруживает,
что за простыми и известными вещами, как,
например, структура материи, скрывается
никем не ожидаемая сложность. Иоганн
Кеплер годами вел борьбу за то, чтобы
отстоять выведенные им круговые орбиты
планет, потому что окружность -- это простейшая
замкнутая кривая. Когда же Кеплер, наконец,
убедился, что орбиты эти представляют
собой эллипсы, он называл эти эллипсы
«навозом», который ему пришлось ввести
в астрономию, чтобы избавить ее от еще
большего количества навоза. Таким образом
получается, что введение дополнительной
сложности на каком-то уровне теории может
упростить эту теорию в целом. Простота
входит в труд ученого неким мистическим
образом -- самая простая и очевидная гипотеза
очень часто оказывается и самой правильной.
«Самая простая» сказано здесь в некотором
объективном смысле. Конечно, всегда существуют
какие-то чисто практические аспекты этого
вопроса, но они не имеют отношения к существу
дела. Если, например, две теории во всем
одинаковы, кроме способа выражения (одна,
скажем, в метрических мерах, другая --
в традиционных английских величинах),
то со стороны ученого нелепо было бы не
воспользоваться той, что ему более привычна.
Если же две теории не эквивалентны, то
есть они ведут к различным предсказаниям,
то ученый тоже, естественно, предпочтет
проверить первой ту из них, что легче
поддается испытанию. Но какую именно
-- это зависит от того, какой аппаратурой
он располагает, какого рода математика
ему более понятна и т. д. Одна и та же теория
может казаться простой одному физику
и сложной -- другому. Все
подобные субъективные причины не объясняют
таинственную роль простоты в научных
исследованиях. Почему все-таки при всех
прочих равных обстоятельствах верной
оказывается именно самая простая гипотеза? Классический
пример -- связь между двумя переменными.
Физик отмечает результаты своих наблюдений
в виде точек на графике, а затрм соединяет
эти точки самой простой кривой, которая
«укладывается» на эти точки. Такая кривая
-- это, естественно, прямая линия. И здесь
простота оказывается даже более важным
фактором, чем сами результаты эксперимента!
Если точки располагаются близко от прямой
линии, то экспериментатор и не подумает
соединять точки кривой, проходящей через
каждую из них. Он будет считать, что опытные
данные получены с некоторой ошибкой и
проведет на графике прямую линию, которая
не совпадает ни с одной из точек, но зато
описывается простым линейным уравнением,
например, Х=2У, как на рис. 1.
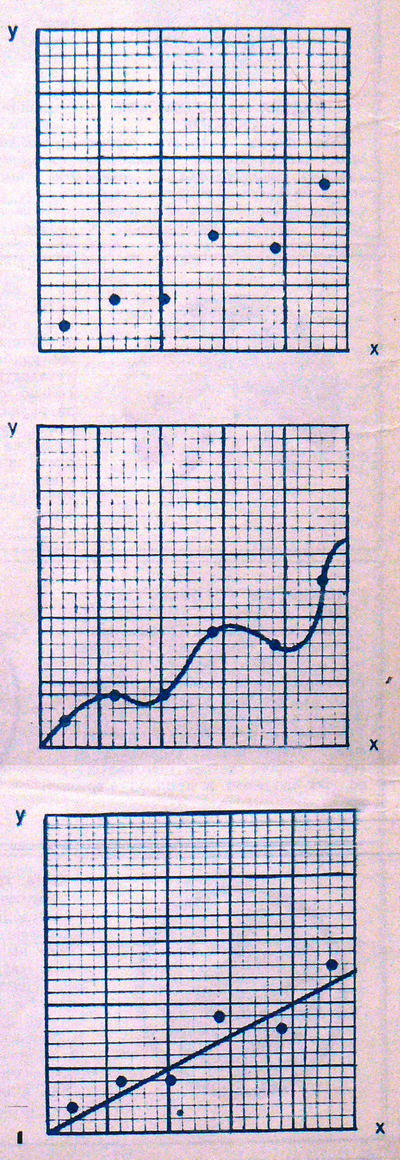
Если же таким
образом не удастся впоследствии предсказать
новые наблюдения, то ученый попробует
кривую более высокого порядка -- например,
параболу или гиперболу. Но при всех прочих
равных обстоятельствах более простая
кривая имеет больше шансов оказаться
правильной -- так устроена Природа. Поразительно
большое число ее основных законов выражается
уравнениями низких степеней. Общеизвестное
стремление Природы к экстремумам -- максимумам
и минимумам -- вот еще огромный, ряд примеров
ее простоты, потому что, как известно
из дифференциального исчисления, функция
достигает своего наибольшего илй наименьшего
значения, когда ее производная обращается
в нуль. Отсюда
вытекает один из самых запутанных вопросов
в философии науки; Если существует тот
особый тип простоты, который увеличивает
вероятность того, что данный закон или
теория окажутся верными, то как его, этот
тип, определить? А если он может быть определен,
то как его измерить? Ученые
стремятся обойти оба эти вопроса. Они
интуитивно представляют себе, что такое
простота, не заботясь о том, чтобы точно
определить это понятие. И в то же время
совершенно очевидно, что когда-нибудь
способ измерения простоты даст огромный
практический эффект. Представим себе,
что есть две теории, которые объясняют
все известные факты об элементарных частицах.
Они равны в своих возможностях предсказать
новые наблюдения, хотя предсказания эти
различны. Обе теории могут быть правильными.
Обе теории могут оказаться ложными. Каждая
требует для своей проверки эксперимента.
Эксперименты разные, и каждый стоит большую
сумму денег. Если простота теории действительно
увеличивает вероятность того, что она
окажется истинной, то, измерив эту простоту
и проведя сначала испытания более простой
теории, мы сразу же сэкономим эту большую
сумму. Но
сегодня никто не знает, не только как
измерить простоту этого типа, но даже
и как определить ее. Что-то должно быть
сведено к минимуму, но что именно? Конечно
же, это не число членов в математической
формулировке закона, потому что число
это зависит от способа записи: одна и
та же формула может записываться с помощью
десяти членов в одном виде и включать
в себя всего только три члена -- в другом.
Знаменитая формула Эйнштейна Е = mс2
выглядит такой простой лишь потому, что
каждый входящий в нее член -- это сокращенная
запись других формул. То же самое встречается
и в чистой математике. Например, число
«пи» представляет собой тройку с бесконечным
рядом десятичных знаков после, запятой.
Но мы пишем символ π, который заключает
для нас теперь весь этот ряд. Минимизировать
степень, в которой входят в формулу закона
различные ее члены, тоже бессмысленно.
Например, уравнение первой степени Х=2У
лишь в декартовых координатах определяет
собой прямую. В полярных координатах
то же уравнение описывало бы уже спираль. Даже
сравнивая между собой простейшие геометрические
фигуры, мы убеждаемся, что понятие простоты
-- совсем не просто. В распространенной
серии комиксов «До нашей эры» была картинка,
на которой пещерный житель изобрел квадратное
колесо. Поскольку в нем слишком много
углов и экипаж поэтому слишком сильно
трясет, то конструктор возвращается к
своей чертежной доске и изобретает «более
простое» колесо -- треугольной формы.
Число сторон и «встрясок» за один оборот
действительно сведено минимуму, но изобретатель
ушел еще дальше от в самом деле простейшего
колеса -- круга, у которого вовсе нет углов.
Или же нам следует считать круг самым
сложным из возможных колес, поскольку
он представляет собой многоугольник
с бесконечным числом углов? Равносторонний
треугольник проще, чем квадрат в том смысле,
что у него меньше сторон и углов. Но, с
другой стороны, квадрат проще треугольника,
если нам важно, чтобы в формуле для вычисления
площади фигуры было как можно меньше
членов. Таким образом вопрос о том, что
же такое простота, остается открытым
и запутанным. Один
из наиболее соблазнительных путей оценивать
простоту гипотезы, выраженной, словами,
-- подсчитывать число входящих в нее примитивных
понятий. Но и этот путь, к несчастью, ведет
в тупик -- можно искусственно уменьшить
число таких понятий, объединяя их друг
с другом. Это ярко показывает философ
Нельсон Гудман в своем знаменитом «зелубом»
парадоксе, о котором написаны уже многие
десятки научных статей. Парадокс Гуд
мана заключается в следующем. Дан простой
закон: ВСЕ ИЗУМРУДЫ ЗЕЛЕНЫЕ. Теперь введем
новое понятие -- «зелубой». Оно означает
способность быть зеленым до, скажем, 1
января 1972 года и быть голубым после этого
срока. Мы теперь утверждаем второй закон:
ВСЕ ИЗУМРУДЫ ЗЕЛУБЫЕ. Оба
закона включают в себя равное число понятий.
Оба объясняют все наблюдаемые факты.
У обоих одинаковая «предсказательная
сила». Если в дальнейшем будет найден
хоть один изумруд необычного цвета, то
этот камень погубит сразу оба закона.
И все-таки всякий предпочтет первый закон,
потому что понятие «зеленый» проще, чем
«зелубой» -- оно не требует новых теорий,
чтобы объяснить внезапную смену цвета
изумрудов 1 января 1972 года. Хотя
в этом частном аспекте проблемы простоты
Гудман сделал больше, чем кто бы то ни
было, он все еще далек от конечных результатов.
А что же тогда сказать о куда более трудной
задаче измерения не частной, а общей простоты
закона или теории? Поистине, понятие простоты
в науке невероятно сложно! Может оказаться,
что в Природе существует не один вид простоты,
а несколько, и каждый из них необходимо
оценить и учесть, высчитывая общую простоту
гипотезы. И
в чистой математике, тсак это ни удивительно,
возникают подобные же затруднения. Математики
ищут новую теорему порой почти так же,
как физики ищут новый закон -- они производят,
эксперимент. Рисуя карандашом один за
другим различные четырехугольники --
а это вполне аналогично экспериментированию
с физическими моделями -- геометр, может
обнаружить, что, когда он рисует квадраты
на внешних сторонах четырехугольника,
то линии, соединяющие центры противоположных
квадратов, оказываются равными и пересекаются
под углом в 90 градусов (см. рис. 2).
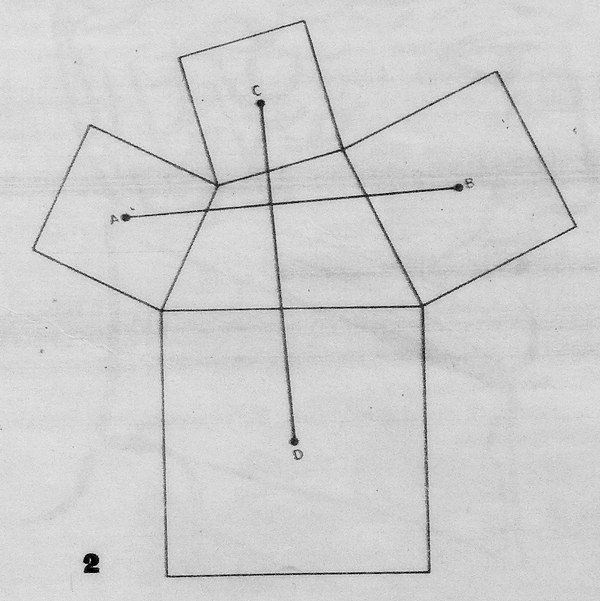
Он экспериментирует
с четырехугольниками различной формы
и всегда получает один и тот же результат.
Теперь он уже чувствует запах новой теоремы.
Как и физик в подобной же ситуации, он
выдвигает простейшую гипотезу. Он не
проверяет для начала правильность теоремы,
о том, что отношение длин этих линий равно,
например, 1,0002 и что они пересекаются под
углом в 89 или 91 градус -- хотя при тех грубых
способах измерений, какими он обладает,
он вполне мог бы получить эти цифры. Нет,
математик вначале проверяет более простое
предположение -- свою догадку, что линии
перпендикулярны и равны. Его «проверка»
в отличие от эксперимента, который поставил
бы физик, состоит в том, чтобы найти дедуктивное
доказательство, которое превратило бы
его гипотезу в безусловно истинное высказывание.
Одно из таких доказательств приведено
в книге И. М. Яглома «Геометрические преобразования». Комбинаторика
богата подобными примерами, когда простейшая
догадка оказывается правильной. Но, как
и в окружающем нас мире, в этой науке тоже
встречаются сюрпризы. Чтобы убедиться
в этом, попробуйте решить следующую задачку.
В произвольном месте на окружности расположено
две или больше точек. Каждая пара точек
соединяется прямой, как показано на рис.
3.
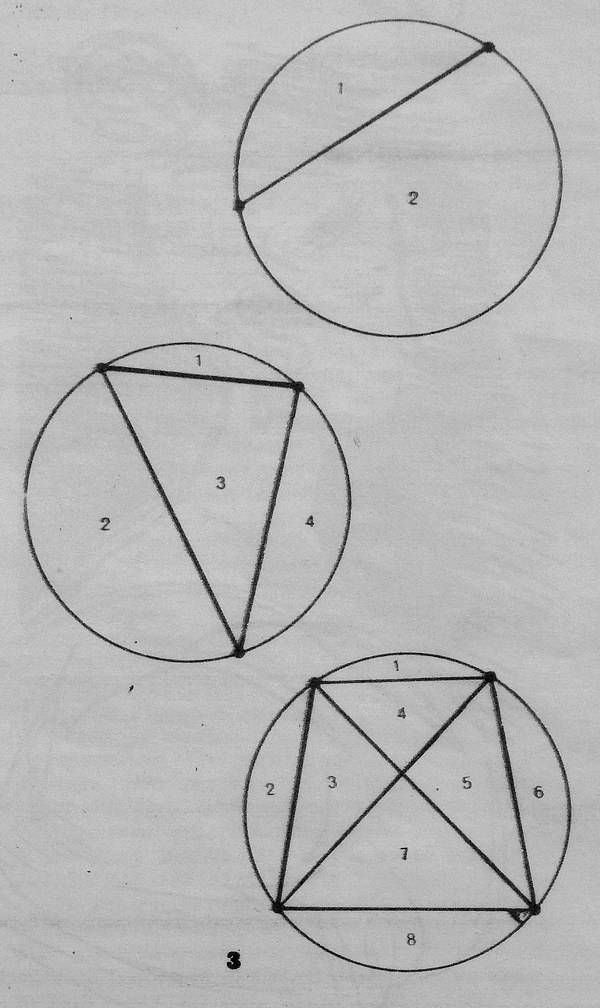
Вопрос звучит так: если на окружности
п точек, то на сколько участков разобьется
круг соединяющими их прямыми? На рисунке
видно, что для двух точек таких участков
2, для трех -- 4, для четырех -- 8. Сколько
их будет для пяти, шести и вообще для любого
числа точек на окружности? И,
наконец, в заключение простенькая задачка,
задача-шутка. Придумайте, как самым простым
способом вскипятить яйцо в течение 15
минут, если у вас под рукой двое песочных
часов -- семи- и одиннадцатиминутные? Когда
вы прочтете ответы на обе задачи, напечатанные
на стр. 58, вы еще раз
убедитесь, какая это непростая вещь --
простота.
журнал "З-С" №5 1971 г.
|