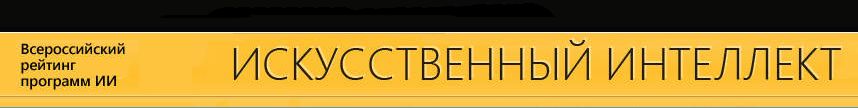Чтобы ответить на вопрос о том, как правильно
подходить к проблеме мозговых механизмов речевых процессов, следует
прежде всего рассмотреть, что представляет собой в психологическом
отношении речевая функция и какие психофизиологические условия
необходимы для ее осуществления. Было
время, когда на речь смотрели, как на ассоциацию образов памяти с теми
условными звуками, которыми эти образы обозначаются, и теми
артикулярными движениями, с помощью которых эти звуки произносятся.
Соответственно этому и мозговые механизмы речи представлялись в виде
ассоциации между центром представлений (его называли иногда «центром
понятий» и локализовали в теменной области коры), центром звуковых
образов, лежащим в левой височной доле, и центром артикуляций,
размещенным в пределах третьей лобной извилины левого полушария. В любом
учебнике неврологии конца прошлого века можно встретить такие схемы,
удержавшиеся и до последнего времени без значительных изменений. Однако,
как история языка, так и психология речи дают все основания утверждать,
что речевые процессы построены гораздо сложнее и что в упрощенную
схему должны быть внесены очень существенные уточнения. Эти уточнения в
одинаковой степени относятся к строению как внутренней, смысловой,
стороны речи, так и ее внешней, звуковой, стороны. Было бы неверно думать, что слово обозначает образ единичных предметов и что речь состоит из ассоциации таких образов. На
первых этапах истории языка слово вообще не выражалось звуком; есть все
основания думать, что первая речь родилась из активной трудовой
деятельности и выражалась в сокращенных рабочих движениях и жестах
указания, которыми человек общался с другими людьми. Этот указательный
жест действительно обозначал лишь единичные предметы или действия.
Однако смысл этого указания становился доступным лишь при знании той
конкретной ситуации, в которой он применялся. Такой
же «номинативный» (обозначающий) характер приобрела и первая звуковая
речь, сменившая раннюю кинетическую речь. В ней впервые слово начало
отрываться от действия и приобретать в звуке свои технические средства
выражения. Есть все основания думать, что на ранних этапах она состояла
из одиночных звуковых комплексов, которые имели функцию указания или
обозначения, но значение которых на первых порах было очень диффузно.
Исследования по палеонтологии речи указывают, что, по всей вероятности,
на первых порах за этими звуковыми комплексами даже не было скрыто
твердых и постоянных значений и что их смысл возникал каждый раз из
конкретной практической ситуации. Уже
на этой стадии развития языка можно, следовательно, различить две
стороны речи, которые составят в будущем психологическую основу всякого
развитого речевого процесса: номинативную, сводящуюся к обозначению
определенного предмета или понятия, и предикативную, заключающуюся в
том, что то или другое обозначение передает какую-то мысль, относится к
какой-то конкретной деятельности и приобретает соответствующий смысл. Дальнейшее
развитие языка заключается в двух основных изменениях, причем каждое из
них вносит фундаментальное усовершенствование в психологию речевого
процесса. Первое
сводится к развитию устойчивых и внутренне богатых слов, которые
приобретают все более дифференцированное значение и начинают отражать
все более глубокие связи явлений. Прежде диффузные, звуковые комплексы
начинают заменяться словами, имеющими стойкое конкретное значение;
слово начинает обозначать определенные конкретные признаки, а позднее —
предметы или действия»; из своеобразного указательного жеста,
непонятного вне конкретной ситуации, оно начинает превращаться в
постоянный символ, имеющий устойчивое значение. Это значение, однако, на
первых этапах вовсе не ограничивается одним предметом. Как это показало
все языкознание, оно с самого начала скрывало за собой известное
обобщение. Сначала оно лишь выделяло известный признак, который входил в
ряд вещей; затем уточняло этот признак, начиная относиться только к
одной категории вещей. Позднее оно приобретало свой самостоятельный
сложный аппарат: к корню слова присоединились префиксы и суффиксы,
каждый из которых обозначал известную систему отношений или известный
класс, к которому относилось обозначаемое словом понятие, — и слово
превращалось в целую систему обобщений, с помощью которых, как говорили
лингвисты от Гумбольдта до Потебни, человек не только отражал, но и
классифицировал мир. Таким
образом, вся история слов человеческой речи была историей развития все
уточняющихся средств обобщения; в современном языке за словами кроются
не образы или представления, но всегда понятия или обобщения тех вещей,
которые этими словами обозначаются. Второй
стороной развития языка является формирование средств, позволяющих
выразить в языке не только образ или понятие, но и целое высказывание
или мысль. Эту сторону можно обозначить как развитие предикативных
средств языка. Изолированные
слова, которыми располагала звуковая речь на самых первых этапах
развития языка, могли отразить отдельные признаки или примитивные
понятия, но они не могли выразить элементарной мысли. Их смысл менялся в
зависимости от ситуации и оставался непонятным вне ее. Если
номинативная функция выражалась с самого начала в слове, то его
предикативная функция выражалась в конкретном действии. Решающий сдвиг
произошел в тот период, когда язык перешел от единичных слов к
элементарным грамматическим предложениям, когда на место единичного
слова встала пара соединенных друг с другом слов и когда в числе
языковых средств появилась первая «синтагма». Переворот,
произведенный этой фазой в развитии языка, был поистине огромен. С
возникновением синтагмы, сначала очень примитивной и не выходящей за
пределы простого сближения слов, а затем дифференцированной и
опирающейся на ряд вспомогательных средств языка, — звуковая речь стала
способной не только обозначать предмет, но и выражать мысль. В устной
речи к средствам выражения мысли присоединились еще жест и интонация; с
развитием письменной речи мысль стала выражаться только средствами
языка, и предикативная функция окончательно перешла к речи, ставшей
самостоятельной системой символической деятельности. Такое
строение речи, естественно, делает недостаточными классические
положения об основных формах речевой деятельности и соответствующие им
представления о мозговой локализации речевых процессов. Основные
формы речевых расстройств, конечно, не смогут исчерпаться нарушением
речевых образов слов или невозможностью произнести те или иные слова.
Существенные формы нарушений речи неизбежно должны проявиться в
дезинтеграции тех обобщений, которые скрыты за словом, с одной стороны, и
в распаде предикативной функции речи, воплощении целого замысла в
речевом высказывании, с другой стороны. Соответственно этому и мозговые
механизмы, лежащие в основе речевых процессов, не могут исчерпываться
кортикальными аппаратами, сохраняющими образы памяти, и их
ассоциациями с «центрами звуковой речи» или «центрами артикуляторных
движений». Разыскивая
мозговую основу речевой деятельности, мы неизбежно должны будем
попытаться найти тот кортикальный аппарат, который обеспечил бы сложную
работу интеграции познавательного опыта, выделения существенных
признаков воспринимаемых вещей и их соотношения в сложных системах
обобщений. Нахождение
таких аппаратов симультанного гнозиса, позволяющих одновременно
усматривать целые категории признаков, приблизило бы к пониманию
мозговых основ, необходимых для того, чтобы человек мог овладеть сложно
построенной номинативной стороной языка. С
другой стороны, в своей предикативной функции речь, состоящая из целых
высказываний, всегда сохраняет тесную связь с основными мотивами,
направляющими активность человека, с его замыслами, с мыслью. В
предложении реализуется мысль, и поэтому, желая приблизиться к мозговым
механизмам конкретной речевой деятельности, мы не можем ограничиться
описанным выше. Другую составную часть этих механизмов мы должны искать в
кортикальных аппаратах, обеспечивающих единство целенаправленной
деятельности, сохранения задачи и интеграции замысла. Нужно найти
кортикальные условия, позволяющие сгущать замысел, создавать известную
внутреннюю схему высказывания, которая после развертывается во внешнюю
речь. Только при этих условиях мозговые механизмы активной речи станут
для нас более понятными. Только координация двух этих существенных
компонентов интеграции кортикальных процессов — гностического и
динамического — может обеспечить реализацию речи как сложной
деятельности. Все
приведенные положения относятся к организации внутренней смысловой
стороны речи. Однако тот же самый подход остается в силе и при изучении
ее внешней, фазической стороны. Внешнее, звуковое строение речи претерпело в своем развитии такие же глубокие изменения, как и внутренняя, смысловая сторона... Когда
слово стало выделять отдельные признаки и обозначать константные
предметы, оно должно было опираться на систему членораздельных звуков.
Из всей серии возможных звуков должны были быть отобраны некоторые
звуковые признаки, которые давали бы слову постоянное звучание и которые
оставались бы неизменными независимо от того, каким тембром, с какой
интенсивностью или скоростью произносилось данное слово. Такая
организация должна была помочь обозначить сравнительно небольшой
комбинацией звуков большое число разнородных понятий. Эту организацию
каждый язык нашел в своей особой фонетической системе, иначе говоря, в
той системе звуковых признаков, которые играют ведущую,
смыслоразличительную роль и позволяют сделать звуковые комплексы
константными, значащими словами. История
и систематика этой фонематической организации речи была впервые
разработана в русской фонетической школе Бодуэном де Куртене,
Трубецким, Щербой, а позднее Сэпиром, Соссюром и рядом выдающихся
лингвистов. Эти авторы показали, что звуковая сторона речи предполагает
не просто тонкое слуховое различение звуков. Ее существенной стороной
является та работа отвлечения от несущественных звучаний и выделения
существенных звуковых признаков, которая делает возможным обобщить
внешне разнородные звучания в одну «фонематическую» группу и резко
дифференцировать близкие звучания, относящиеся к разным группам «фонем».
Именно в этом обобщенном строении акустического акта, а вовсе не в
тонкости слуха и следует видеть то, чем членораздельный слух человека
отличается от нефонематического слуха животных. Вершины
своего развития этот фонематический слух достигает в письменной речи,
при которой самые разнообразные варианты звучаний начинают обозначаться
одной буквой (например, буквой «д», одинаковой в разно звучащих словах:
«дом», «дума», «день», «дикий»), а близкие звучания, но относящиеся к
разным смысловым группам, начинают обозначаться разными буквами
(например, «день» и «тень» или «зуб» и «суп»). Эта
фонематическая организация звуков сохраняется и при развитии сложного,
грамматически дифференцированного строения слова, и чем сложнее
становятся те комплексы звуков, которыми выражается слово, тем большей
стойкостью должны обладать эти фонемы для того, чтобы значение слов
сохраняло свою константность. Совершенно
понятно, что эта фонематическая организация звуковой речи предполагает
выработку известных четких схем не только в слуховом опыте, но и в
артикуляторной деятельности человека. Если
в примитивных цокании или прищелкивании, выражающих известное
аффективное состояние или обращающих внимание собеседника на
какой-нибудь предмет, сохранение константности звучания было
несущественно, то теперь, с переходом к членораздельной обозначающей
речи константность звучаний становится решающим условием. Выраженное в
определенном комплексе фонем слово должно оставаться тем же самым
независимо от того, каким тембром, с какой интенсивностью или скоростью
оно произносится; в слове, которое имеет сложную звуковую структуру,
эта константность должна сохраняться независимо от того, в какое
звуковое соседство попадает данная фонема. Без этого условия слово не
может сохранить определенное значение, устойчиво остающееся при любых
ето изменениях. Все
это означает, что человек, владеющий языком, принужден выработать
достаточно отчетливые артикулярные схемы для произнесения тех или
других членораздельных звуков и что эти схемы артикуляторных движений
должны быть настолько обобщены и пластичны, чтобы комплекс ведущих
артикуляторных признаков оставался постоянным в различных условиях,
отличая данную фонему от артикулярно близких звучаний и тем самым
сохраняя константность языка. Эти обобщенные схемы артикуляций,
отличающихся устойчивыми фонематическими признаками, можно было бы
назвать «артикулемами», и именно эти артикулемы, дифференцируя близкие
по произношению, но далекие по значению звуки (например, язычно-небные
«д», «л», «н»), дают возможность обеспечить устойчивость звучания слова. Таким
образом, и в организации звуковой, фазической, стороны речи можно
обнаружить тот же принцип, что и в организации ее смысловой стороны. И
здесь основным элементом речи являются не изолированные слуховые
представления или привычные артикулярные комплексы, но обобщенные схемы
звучаний или артикуляций, в которых фиксируется определенная группа
ведущих признаков, сохраняющаяся в меняющихся звуковых условиях и
обеспечивающая константность слышимых или произносимых слов. Совершенно
понятно, что как нарушения звуковой стороны речи, так и ее мозговая
локализация должны представляться несколько иначе, чем это имело место в
классической неврологии. В
основе центрального нарушения узнавания звуковой речи должно лежать не
исчезновение отдельных слуховых образов, но дезинтеграций сложного
организованного слуха, благодаря которому становятся невозможными
выделение и сохранение существенных для смыслоразличения звуковых
признаков. В основе центрального нарушения экспрессивной,
артикулируемой речи должно лежать нарушение тех обобщенных
артикуляторных схем, которые позволяют выбрать нужные артикуляторные
признаки и произнести соответствующее слово. Весь
кортикальный аппарат, необходимый для осуществления фазической речи,
начинает представляться как сложная система мозговых зон, которая может
обеспечить эту выработку обобщенных акустических схем, с одной
стороны, и их артикуляторных эквивалентов — с другой. Пытаясь лучше понять мозговые механизмы внешней звуковой организации
речи, мы приходим снова к необходимости выделить не «центры», которые
являлись бы своего рода депо отдельных образов памяти, а такие
механизмы, которые обеспечили бы интеграцию элементарных возбуждений,
выделение существенных признаков и организацию их в сложные устойчивые
схемы. Это требование сохраняется как для рецепторной, так и для
эффекторной стороны речи и направляет наши поиски адекватных мозговых
механизмов речевой деятельности. |