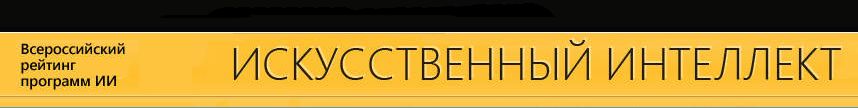Решая эту задачу, индийские филологи разработали интереснейшую лингвистическую теорию, создали принципы лингвистического описания, которые для Европы и в XIX веке в значительной мере оставались новыми.
В Древней Греции было иначе. Здесь начал разрабатываться целый комплекс естественных наук во главе с философией, игравшей роль общей методологии. Грамматика греков формировалась как «лингвизированная логика».
В Арабском халифате — конгломерате народов, носившем это имя, — арабы не составляли абсолютного большинства, но их язык был языком государства и культуры этого целого. Эту роль он должен был отстаивать перед лицом сильных соперников: древнеперсидскпй, фарси, например, уже имел многовековую письменность, когда арабский делал в культуре лишь первые шаги. Поэтому развитие, «окультуривание» арабского языка было делом большой политической важности, и лингвисты здесь были остро необходимы. За короткий срок они разработали систему грамматических норм, описали звуковой строй арабского языка, составили десятки томов словарей. Все это позволило диалекту номадов, кочевников, стать языком богатой и пышной культуры. На нем были созданы классические художественные творения, развилась своеобразная поэтическая традиция, оказавшая глубокое влияние на позднейшие культуры Востока; на нем были написаны и научные сочинения по разным областям знания.
Корни европейской лингвистики, как и всей нашей культуры, уходят в античность. Но она была вызвана к жизни другими причинами, и пройденный ею путь тоже своеобразен
В Европе средневековья языком не только церкви, но и всей общественной жизни была латынь. На ней фиксировались законы, шло делопроизводство, писались научные сочинения, велись ученые диспуты. Многочисленные живые языки Европы оставались, по существу, бесписьменными диалектами. На них говорили дома, на рынке, на площадях и дорогах, и только. Само понятие правильности не имело к ним отношения. Образованные люди смотрели на них с глубоким пренебрежением и видели в них «сплошную неправильность». Лексикон этих диалектов был слишком беден и примитивен, чтоб говорить о серьезных предметах — о религии, философии, морали, политике.
Самосознание формирующихся народностей, созревающих наций пробуждается в эпоху Возрождения. Данте Алигьери был первым, кто отважился написать глубокое философское и художественное произведение на презренном живом итальянском. И оказалось, что это возможно... В Англии эту роль сыграл Чосер, во Франции — Ронсар.
Основоположником русского литературного языка признан А. С. Пушкин. Именно в его творчестве русская нация впервые осознала себя в своем языке, особенном и прекрасном.
Обществу начинает казаться, что его собственный литературный язык уже существует, раз на нем созданы великолепные тексты. Но это еще иллюзия.
Как можно учить детей «пушкинскому языку»? Ведь Пушкин сам, конечно, не знал, что именно делал он с русским словом, как удавалось ему находить слова и соединять их в гармонические построения. Чтобы кого- то учить такому языку, необходимо было извлечь из живых, дышащих мыслью и чувством текстов сухие абстрактные «правила». И эту задачу должны были решать лингвисты.
Пока нет лингвистического описания языка, язык неуловим, бестелесен. Вокруг нас звучит пестрая речь, мы читаем разные тексты, иногда прекрасные, а иногда и скверные. Но речь отзвучала, книга закрыта — разве мы помним, как были построены фразы, какие слова, в каком порядке, в каких соединениях протекали через наше сознание? Мыслительные процессы осуществляются в языковых формах, но, говоря и слушая речь, мы не осознаем этих форм.
Грамматика — это «словесный портрет» языка. Он необходим, чтобы ощутить язык как единственную в своем роде, целостную систему, обеспечивающую нам возможность передавать друг другу разнообразные оттенки возникающих у нас мыслей и чувств. И чем точнее, детальнее, богаче этот портрет, тем более тонкие оттенки смыслов оказываются доступными осознанию, тем богаче становится духовная жизнь нации.
«Первый лингвист» еще ничем не отличается от обычного носителя языка, который «все умеет»: и говорить, и понимать, но совсем не знает, как это у него получается. И — заметим и подчеркнем — у него нет в запасе гех слов (терминов), в которых он мог бы говорить и думать о языке и его устройстве. Любой другой специалист в этом смысле с самого начала «богаче» лингвиста. В разговорном, даже бесписьменном языке есть названия растений и животных, минералов, камней, почв, даже звезд. А слов «про язык» нету; именно потому, что людям не нужно думать о языке, чтобы на нем говорить. Только письмо заставляет их об этом задуматься: писать надо учить и учиться. Слова «буква», «грамота», «книга» древнее, чем «предложение», «глагол», «предлог».
Описывать язык — это значит одновременно создавать концептуальную призму, систему понятий и терминов, «имен» для языковых фактов, для возникающих в речи отношений между языковыми формами. Без этих имен нельзя увидеть, осознать самих фактов.
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, в своем творчестве открывая русскому обществу новое видение национальной жизни, неизбежно творили новое и в языке. И если бы лингвисты не работали в унисон с мастерами слова, если бы система норм не перестраивалась от поколения к поколению, если бы Достоевскому в школе внушали то же представление о языке, что и Пушкину, то русская нация не имела бы ни Достоевского, ни Толстого. Задача лингвистов, их социальная функция тогда состояла в том, чтобы как можно быстрее превращать «новое» в «старое», достижения мастеров, личностей — в достижения нации.
...Но наступает момент, когда литературный язык, ради которого предпринималась эта работа, в основном сложился. Система норм устоялась и уже не меняется так быстро. Важнейшие принципы организации правильной речи осознаны, описаны и переданы школе. Текущая «служба языка» уже не требует такого, как прежде, напряжения сил. Нужна ли теперь наука о языке? Есть ли у нее еще другие задачи?
В начале прошлого века перед европейским языкознанием возникла теоретическая задача совсем другого порядка, глубинно (но не прямо) связанная с предыдущей. Когда европейские народы осознали себя, свою «особенность» в мире, когда они признали свои языки достойными уважения и интереса, проснулся интерес и к прошлому этих языков. А когда оказалось, что история языка может многое рассказать и о далеком прошлом народа, о временах, от которых не дошло до нас даже легенд, к лингвистике обратилось много светлых умов.
На грани XIX и XX веков была высказана гипотеза о том, что многие языки Европы и некоторые языки Азии происходят от общего предка, давно уже исчезнувшего: русский и английский, армянский и шведский, таджикский, португальский, хинди и много других. Чтобы проверить эту гипотезу, надо было «спуститься вниз», прощупать руками все развилки путей, восстанавливая былое единство за давно наступившим различием, и в итоге реконструировать «язык-предок». Если это удастся, гипотеза будет доказана.
Ученые, работавшие в русле сравнительно-исторического языкознания, — «компаративисты» — достигли исключительной строгости в своих доказательствах, им удалось разработать великолепный понятийный аппарат концепции.
В шестидесятые годы прошлого века эта цель была в основном достигнута. Август Шлейхер представил миру целостное описание исчезнувшего праязыка: его звукового строя, грамматики и словаря. Он ощущал этот язык так непосредственно и реально, что написал на нем басню. И в известном смысле неважно сейчас, что его представление оказалось иллюзией, что его ученик, Иоганн Шмидт, очень скоро показал теоретическую недостаточность его посылок и дополнил концепцию «генеалогического древа» языков своей концепцией «волн»; из нее с очевидностью следовало, что того конкретного языка, на котором была написана басня, никогда не существовало: слова, выражения, конструкции, составлявшие басню, были взяты из разных эпох развития языка, жившего тысячелетия..
Но еще раньше интересы лингвистов начали раздваиваться. Рядом с задачей восстановить далекий праязык возникла другая: восстановить исторический путь каждого данного языка — путь, единственный в своем роде, единственный и неповторимый. Это направление интересов внутри науки явно гармонировало с интересом формирующихся наций к своему прошлому. Они хотели знать, какие процессы привели их языки к тому состоянию, в котором мы их застаем сейчас. Это был своего рода «социальный заказ», выполнявшийся лингвистами.
За несколько десятилетий напряженной работы лингвистов в разных краях Европы общая картина этих процессов существенно прояснилась. Скрупулезно и четко были описаны изменения, которые претерпели системы склонения и спряжения, образование форм, наборы грамматических категорий, определяющие «лицо языка». Были фиксированы законы превращения звуков...
Вот с такими итогами лингвистика входит в XX век. В общем и целом она выполнила оба социальных заказа. Описав национальные литературные языки, она фиксировала системы норм грамматики, произношения, орфографии и словоупотребления. Тем самым была удовлетворена острая потребность наций в едином, нормированном средстве общения. Вычертив исторические траектории языков, лингвистика удовлетворила интерес народов к этой стороне своего прошлого.
Может быть, наука о языке должна закончить на этом свое творческое существование? Уйти со сцены, оставив после себя «инженерные службы»: составление новых словарей, учебников, службу обучения родному литературному языку в школах с соответствующей надстройкой по подготовке квалифицированных кадров?
* * *
Лингвистам, начинавшим работать сто лет назад, досталась нелегкая творческая судьба. Они входили в науку, когда перспективы сравнительно-исторического языкознания казались безбрежными, успех нарастал, будущее сулило надежды. А когда наступила зрелость поколения, горизонты сузились. Стало ясно, что главная задача уже решена, остается собирать после жатвы колосья. Тому ли хотелось посвятить жизнь? Но ученый только раз выбирает профессию...
Фердинанду де Соссюру был 21 год, когда он в 1878 году написал работу о древнейшей системе индоевропейских гласных. Вопрос глубоко специальный, требовавший высокого профессионального мастерства.
Ф. де Соссюр выдвинул смелое предположение, которое получило в науке имя «ларин- гальной гипотезы»: в праязыке-основе были звуки — он назвал их ларингальными, по предположительному месту их образования,— не сохраненные ни одним из языков-потомков. Определенные изменения гласных, которые не удавалось объяснить, опираясь только на уже известные звуки, можно объяснить, приняв версию о существовании этих исчезнувших звуков. Единственный след, оставленный ими, — эти самые изменения других звуков.
Конечно, это была очень смелая гипотеза. Языкознание еще не знало такого, чтобы реконструировать звуки на основании «чистой теории». Всегда хоть какие-то из многочисленных потомков давали для реконструкций и фактическое основанне. Но впоследствии гипотеза подтвердилась и получила название ларингальной теории: предсказанные Соссюром звуки действительно обнаружились «на своих местах», когда был открыт (дешифрован) хеттский язык, что случилось уж много позже.
Дискуссии по поводу этой теории продолжаются и сейчас, но я не собираюсь в них вмешиваться. Меня интересует другое: Соссюр, начинавший свою научную, творческую жизнь как «чистый» компаративист, оказался основоположником так называемой «новой», «структурной» лингвистики. Его вторая, всемирно известная работа — «Курс общей лингвистики», перевернувшая многие представления лингвистов, не была им завершена и опубликована при жизни. Она восстановлена по запискам студентов Женевского университета и издана ими посмертно.
Две выдающиеся и очень разные работы — «Мемуар» и «Курс общей лингвистики» — отмечают начало и конец творческой жизни этого лингвиста. И не странно ли, что именно он, начинавший с древнейшей истории, он, компаративист, ощущавший язык протяженным во времени, воспринимавший его как процесс, выдвинул и обосновал тезис о том, что главная задача языкознания — изучать языковые системы совершенно безотносительно к их истории!
Сейчас мы уже привыкли к такому взгляду, воспринимаем его как оправданный и даже «естественный».
Но в начале века этот тезис звучал иначе. Убеждение, что понять современный язык можно только через его историю, было тогда всеобщим. Многим лингвистам казалось тогда, что научное поннмание фактов современного языка — это и есть понимание того, как они возникли, сложились.
Структурная лингвистика, восходящая к «Курсу» Соссюра, формировалась как особое научное направление в четкой оппозиции и к сравнительно-историческому языкознанию, и к традиционному «описательному» языкознанию, изучавшему современные языки. Но значит ли это, что сам Соссюр просто отказался от поисков своей юности, перечеркнул то научное направление, в русле которого складывался как лингвист? Или все-таки «Курс» был творческим продолжением той же традиции, тех же исканий?
Я склоняюсь ко второму. Подлинно новое всегда творчески продолжает и развивает старое, наследует ценности, добытые раньше, тем более, если в этом «старом» лежит кусок собственной жизни. Мне кажется, что если бы Соссюр не был автором «Мемуара», он не стал бы и автором «Курса».
Изучая историю языка, компаративисты воспринимали его как живой, слаженный, развивающийся «организм». Их нередко упрекали в неправомерной биологизации своего объекта, и, вероятно, они действительно были в этом повинны. Но за этой аналогией, за этим выбором слова я вижу прежде всего присущее им восприятие языка как «целостности», которое естественно следовало из научных представлений, сформировавшихся в рамках этого направления.
Однако компаративисты исходили из такого представления о целостности языка во многом интуитивно, и никто из них до Соссюра не сформулировал это ощущение в четкую концепцию.
Новое слово, произнесенное в «Курсе» Соссюра, состояло прежде всего именно в том, что каждый язык в любой момент своего развития представляет собою слаженную, целостную систему, части которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это было действительно новое слово; за ним стояла, из него развивалась новая система представлений, новое научное мировоззрение.
Осознание фундаментальных идей, уже интуитивно используемых, но еще не сформулированных, не положенных в основу нового научного мировоззрения, — особая самостоятельная задача. Такого рода рефлексия становится необходимой ученому и науке в целом именно тогда, когда меняется общая установка работы, когда происходит перестройка задач и целей науки. К концу прошлого века стало понятно, как развивались европейские языки, как они стали такими, каковы они есть. И тогда наступила очередь новых вопросов: что такое язык и как он «работает».
Соссюр дал на эти вопросы содержательные ответы, и за истекшие с тех пор 60 лет они были дополнены, развиты, уточнены. Мы теперь понимаем язык не только как особого рода знаковую систему, но имеем уже представление о принципах ее внутренней организации, начинаем понимать природу ее элементов, «языковых знаков» разного типа, исследуем их взаимные связи, взаимодействии. Приняв предложенное Соссюром разграничение понятий «язык» (та знаковая система, которая усваивается человеком, откладывается в его памяти и обеспечивает ему возможность говорить и понимать других людей, пользующихся этим же языком) и «речь» (процесс использования этой системы, этого «кода» людьми), лингвистика обрела новую задачу — исследовать язык на «службе у общества». В систему лингвистической теории органически втянулись и представления об обществе, «хозяине» языка, и об индивидуальном носителе языка. Именно люди, употребляя язык, независимо от своей воли воздействуют на него и заставляют его развиваться.
Современная лингвистика вплотную подошла к построению общей теории языка, к таким законам, закономерностям, принципам, которые могут считаться общими, едиными для всех языков земли, хотя и являются каждый раз в новом конкретном обличье. Это значит, что она очень серьезно выросла как наука и методологически стала в один ряд с естествознанием.
За последние десятилетия лингвистика развивается интенсивно. Описываются все новые языки разных систем, а те, которые уже были описаны раньше, исследуются во все более тонких деталях. Труд колоссальный и очень увлекательный для специалиста — постигать, как тонко организованы разные участки языковой структуры, какую массу возможностей предлагает каждый язык своим носителям для выражения мысли.
* * *
Оглядываясь на историю лингвистики, можно видеть, что на каждом этапе своего развития она решала не только внутринаучную, но и какую-то социальную задачу огромной важности: будь это строительство национального языка или восстановление его истории, его «генеалогического древа». Лингвисты, занимавшиеся всем этим, иногда осознавали — а, наверное, еще чаще не осознавали — свою социальную роль в развитии культуры народа, общества. Подобные задачи легче всего формулировать ретроспективно, когда они уже позади.
И все же ученый должен верить в социальную значимость своей работы, даже если он не видит прямой цели так ясно, как ему бы хотелось. Мне кажется, что лингвисты моего и старшего поколения, работавшие горячо и самоотверженно, эту веру имели, но четкого ответа на вопрос «зачем?» у нас не было. Мы понимали, что язык — это первооснова культуры, что современная культурная жизнь необходимо требует сознательного отношения к языку, накопления и развития научных знаний о нем. Понимали и то, что невозможно остановить начавшийся процесс познания. Любопытство, унаследованное нами от обезьян, — великая сила, и мы без него, наверное, не стали бы людьми. Вспоминали и о практических выходах — школе, службе языка, прикладных задачах... Все-таки, мне кажется, баланс не вполне сходился, не уравнивались затраты общественных н наших личных усилий — и тот «продукт», который имеет практический спрос, то знание, которое потребляется не только нами самими, лингвистами-профессионалами, но и забирается у нас обществом,.. Может быть, мы работаем на будущее и когда-то, кому-то, зачем-то понадобится наш результат?
Я думаю, что сейчас это будущее становится почти осязаемым. Язык — это «фактура» мысли. Это не только средство ее выражения, передачи вовне. В языковой форме протекает ее становление, осуществляется ее бытие — для других, а тем самым для нас самих. Мысль может не выражаться ни звуком, ни буквой, когда мы думаем про себя. Но она не может не опосредствоваться знаками языка, его «обеззвученными», «идеальными» структурами.
Проникновение в природу языка, и именно в те тонкие его механизмы, знание которых совершенно избыточно с точки зрения говорения и писания, приближает нас к пониманию механизмов мысли. И никакого другого способа проникнуть в природу мысли пока, по крайней мере, нет Сегодня содержание наших мыслей недоступно биофизическому или биохимическому исследованию. Самые тонкие методы этих дисциплин позволяют фиксировать лишь сам факт протекания в мозгу каких-то процессов и, может быть, меру их интенсивности.
О том, что именно мы думаем, можно узнать только из феномена речи. Всякая разумная речь осмысленна, то есть заключает в себе мысль. Она заключает ее не так, как скорлупа ореховое ядро или одежда — тело, и не так, как действие заключает в себе свою цель. Мысль, «смысл», — это внутренняя сторона речевых построений. Поэтому речь может, должна и будет служить естественным «экраном» мыслительного процесса. Сегодня она — единственный доступный чувственному восприятию процесс, который можно исследовать объективными методами, чтобы проникнуть в механизмы мысли.
По мере того как этот факт осознается лингвистикой, центр ее внимания перемещается с изучения системы форм — своего рода «анатомии языка» — на лингвистические механизмы порождения речи. Объект нашей науки начинает пониматься как «работающий язык», язык, обслуживающий мышление.
А можно ли надеяться, что знание того, как естественным образом, сами по себе, протекают мыслительные процессы, поможет нам улучшить, оптимизировать их протекание? Я думаю, что сейчас еще рано пытаться отвечать на вопрос положительно или отрицательно. Но все-таки мне хотелось бы сказать на эту тему несколько слов.
В широких слоях общества, включая и высокообразованную его часть, где-то под спудом живет убеждение, что можно «хорошо мыслить» и не уметь хорошо выражать свои мысли. «Кожура» может быть и корявой, а зернышко прекрасным... Люди с высшим и «супервысшим» образованием, наверное, гораздо реже говорили бы о себе: «Ах, я совсем не умею писать!», если бы они отдавали себе ясный отчет в том, что в этих словах заключается самооценка их способности мыслить!
Если наша наука сумеет донести этот факт до общественного сознания, то станет реальной и сугубо практическая задача обучения людей «нормативному мышлению», которая, конечно же, должна решаться через овладение общими принципами организации связной речи. Эта задача естественно, органически вырастает из тех задач, которые ставит перед собою школа сегодня. Но вместе с тем это и другая задача, потому что постановка ее исходит из другого понимания отношений между словом и мыслью.
Так называемая «работа по развитию речи» до тех пор будет оставаться мертвой, пока она будет пониматься как «развитие речи», а не развитие мысли, мыслительных способностей человека. Способности сами по себе — это же лишь потенции, это только то, что человек «мог бы уметь», а не то, что он умеет, чему он научился.
Конечно, в современном обществе врожденная способность человека овладевать элементарными нормативами мышления с первых лет жизни, когда ребенок овладевает родным языком, развивается множеством самых разных путей. Этих путей так много, что перечислять их не имеет смысла. Но между всеми ими есть одна существенная общность: все они косвенные. Я убеждена, что наряду с этими косвенными путями необходим и будет когда-то проложен и прямой путь, лежащий через овладение глубинными механизмами речи-мысли. Первым шагом на этом пути должно быть осознание того, что дурная, корявая речь — вернейший сигнал неумения мыслить. А также и того, что это двойное умение — говорить и мыслить, писать и мыслить — есть не только и не столько «дар божий», сколько результат целенаправленной работы.
"Знание-Сила" сентябрь 1975 №579
для справки
Майя Ива́новна Череми́сина (род. 30 сентября1924) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор Новосибирского
государственного университета, главный научный сотрудник Института
филологии СО РАН, заслуженный деятель науки РФ; глава новосибирской
синтаксической школы. Труды по общей и русской лексикологии, теории синтаксиса, синтаксисурусского языка и языков коренных народов Сибири.
В статье ни словом не упомянуто о работе филологов над пониманием того, как мы "расшифровываем", понимаем (да простят мне тавтологию) текст. Так как статья была написана довольно давно, (а также в силу гуманитарного образования) простим автору его невольное упущение. Основная филологическая задача сегодняшнего дня - создание словарной и понятийной базы для подготовки и реализации
алгоритмов, способных адекватно понимать человеческую речь, смысл
текстов. (При этом никто не отменял задачу противостояния несказанно усилившемуся, по сравнению с 1974 годом, когда была написана данная статья, давлению на русский язык. Как со стороны английского, так и со стороны многочисленных мигрантов, изъясняющихся на "пиджин русиш".)